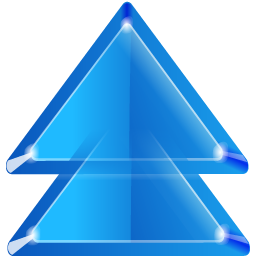Хотя начало отступления произошло
через раскол, но отступившие от Церкви
уже не имели на себе благодати
Святого Духа.
Святитель Василий Великий
Франциск Ассизский и католическая святость. Издание Сретенского монастыря, 2001
В последние годы в России все чаще слышатся голоса иностранных проповедников и миссионеров, предлагающих нам свое миропонимание, свое религиозное воззрение, свой путь спасения. Среди них наиболее весомо выглядит проповедь представителей римо-католической церкви, имеющей, в отличие от «новорожденных» сект, многовековую историю. Автор этих строк, наблюдая постоянно возрастающие масштабы прозелитизма католиков в России и странах бывшего Союза, решил исследовать вопрос: как понимается в католицизме спасение, причем не с догматической точки зрения, а именно с практической стороны. Какие средства предлагает католическая церковь для достижения спасения? Как человек использует эти средства? Как понимается «святость» с точки зрения католической церкви? Насколько сопоставим образ святого православного и святого католического? Попыткой ответить на эти вопросы и явилась данная работа, которая, надеюсь, сможет утвердить в Православии некоторые сомневающиеся сердца, а иным — явиться подспорьем в вопросах полемики и апологетики.
Причины разрыва молитвенных и евхаристических отношений, происшедшего между православной и католической Церквами около десяти столетий назад, имеют не только догматическую, каноническую и обрядовую сторону, но и внутреннюю, духовную, которая называется аскетикой и прямо вытекает из догматической системы той или иной христианской конфессии. И даже если нам, православным, удастся согласовать с католиками все основные разноречащие или даже противоречащие друг другу определения в области догматики, канонического и церковного права (что, впрочем, если и возможно, то лишь на словах, о чем свидетельствует весь опыт церковной истории), то как раз с внутренней, духовной жизнью все обстоит гораздо сложнее.
Судите сами: можно ли с легкостью отказаться от той молитвенной практики, тех методов духовной жизни и аскезы, которые были накоплены в течение многих веков, несколькими десятками поколений? Это — внутреннее и, если угодно, уже ставшее врожденным, потому-то и оставить его, сменить раз и навсегда, внезапно начать жить по-другому — дело немыслимое и невозможное.
А ведь различия между православными и католиками в этой области настолько существенны, что бросаются в глаза каждому, кто хоть как-то сталкивался с подобного рода вопросами, кто хотя бы в самых общих чертах знаком со святоотеческим учением о молитве и духовном делании.
И конечно же, когда речь идет о внутренней, сокровенной практике духовной жизни, необходимо исследовать ее на примерах жизни святых, ибо именно святые являются полноценными выразителями церковной истины жизни, именно святые — провозвестники учения Церкви и выразители ее идеалов, именно они — вожди народа и образцы для подражания, именно они — в полноте вобравшие и воплотившие в своей жизни тот молитвенно-аскетический подвиг, учение о котором содержит их Церковь.
Поэтому мы хотели провести, насколько возможно, подробный анализ духовной практики католицизма на примере одного из святых западной церкви — Франциска Ассизского. Этот подвижник выбран для рассмотрения его жизни и деятельности, а главное — его мистики, как один из известнейших и глубоко почитаемых во всем западном мире католических святых.
Прежде чем сосредоточить свое внимание на самом главном — духовной практике Франциска, необходимо сделать некоторые вступительные замечания касательно эпохи, в которой он жил (а это был крайне непростой период в жизни католической церкви — конец XII — начало XIII столетия). Одна из любимейших католических книг по духовному чтению — «Цветочки святого Франциска Ассизского» — свидетельствует об этом времени так: «...бесконечное одиночество охватило верующего человека раннего средневековья: отчаяния в себе столько же, сколько в церкви. Казалось, мир вернулся опять к тому состоянию, в котором был до пришествия Христова, с тою лишь разницей, что приходилось ожидать уже не кроткого Сына человеческого, но грозного Судию». «Жажда наживы, искание земных благ сделалось обычным явлением в католическом духовенстве. Пришло к тому, что церковь католическая, ставшая на Западе между человеком и Богом, в сущности, скрывала Божество от лица людей. В этой церкви продавалось все, начиная с отпущения грехов и кончая кардинальской шапкой».
Официальная религия в душах верующих представлялась наглой карикатурой на Евангелие. Священники превратились «в жадных волков, не щадивших собственные стада... многие аббаты жили как бандиты, а епископы были подобны веселым забиякам... Папа открывает двери храма торговцам, сам обращается в торговца, продавая все, на что только есть спрос: церковные должности, духовные блага, земные короны, священное и мирское, землю и небо, не беспокоясь о том, кто является покупателем».
И вот в XIII столетии «христианство явилось в мир, чтобы исцелить его». Вплоть до этого времени, по мнению западных мыслителей, длилось искупление. Его-то и совершил Франциск, став, как утверждают католики, «вторым Христом, дарованным миру для спасения людей», зеркалом Христа, Которого вполне возможным стало рассматривать в свете Франциска. Где родилось, откуда взяло свое начало столь странное и кощунственное уподобление? Является ли оно вымыслом отдельных католиков или закономерным следствием всей жизни католической церкви? Необходимо выяснить причины возникновения подобного утверждения. Для этого отметим вначале основные этапы жизненного пути западного святого.
Известно, что в дни юности Франциск с увлечением предавался радостям светских утех. Будучи воспитанным на рыцарских романах и поэзии трубадуров, которая, между прочим, «состояла не из одних только любовных пошлостей», но «война прославлялась в ней с диким увлечением», с самого раннего детства начал он мечтать о подвигах, славе и чести. Заметим здесь, что увлечение поэзией трубадуров не прошло бесследно: через несколько лет, по основании Франциском своего ордена, он «читал достойнейшим из своих учеников произведения трубадуров — учителей своей юности». А поскольку трубадуры «возбудили героические мысли и чувства», то Франциск, жаждая этой славы, пытался ее приобрести (или заработать) любым способом, жадно ища первой представившейся возможности.
Так, уже в детстве он был вожаком местной ватаги ребятишек, руководил пирушками и вечеринками, будучи избран «королем» праздника. И в этой далеко не безупречной и не благочестивой компании, где каждый стремился показаться хуже, чем есть на самом деле, Франциск считал своим долгом превзойти своих сверстников-собутыльников в невоздержной жизни. Поощрение же подобного поведения родителями Франциска, гордившимися его блеском, славой и успехами, приводило к тому, что будущий «святой» заявлял напрямик ни больше ни меньше как следующее: «будет день, когда весь мир преклонится предо мною».
Франциск предпринимал усилия и искал различные возможности для того, чтобы каким-нибудь образом заработать славу. Однако он терпел одну неудачу за другой, и вскоре ему стало невыносимо оттого, что все его планы и мечты о признании в обществе рухнули. Через некоторое время он начал долго и продолжительно молиться перед Распятием. «Долгие молитвы воспламеняли его — и от Распятия исходили голоса, пространство наполнялось видениями. Он дрожал и тосковал после этих приступов». Во время одной из таких молитв, пребывая в состоянии экзальтации и восторженности, да еще и успев к тому времени подхватить лихорадку, Франциск услышал некоторый голос, призвавший его к реставрации отмирающей и рушащейся католической церкви. И тут он понял, что несравненно большую славу он сможет получить от Бога, и еще в этом мире, нежели от походов, пирушек и искания почестей среди людей. Осознав, где, в какой области он сможет добиться, заслужить максимум почестей и славы, о которых он столь страстно мечтал, Франциск, не раздумывая, окунулся в эту сферу деятельности с головой.
Проявив незаурядную смелость и ревность, двадцатитрехлетний Франциск начал вести иную жизнь, сменив одну крайность на другую. Здесь чрезвычайно важно отметить тот факт, что свой жизненный путь ассизский подвижник определил себе сам, не имея ни наставника, ни духовного руководства. В дальнейшем мы увидим, что на нем сбылись слова преподобного Иоанна Лествичника: «кто вначале не жил в повиновении, тому невозможно приобрести смирения, ибо всякий, сам собою научившийся художеству, кичится».
Сразу же после ухода из отчего дома Франциск стал проповедовать, причем «мысли излагались в беспорядке... Было больше жестов, чем слов. Он проповедовал всею своею фигурой, непрерывно находившейся в движении, прерывая рассуждения пламенными жестами и кивками головы, плачем, смехом, мимическим выражением мыслей, когда не хватало слов». При этом «очи слушателей омывались слезами... сердца прыгали в груди».
Не будучи знаком ни с какими заветами и наставлениями святых отцов древности, Франциск самовольно взял на себя подвиг юродства, намеренно облачаясь в лохмотья, выпрашивая объедки себе на пропитание, бродя по улицам в поисках камней для постройки церкви и провоцируя людей на унижение себя. Разумеется, видя, что творится с Франциском, не выдержал отец его и однажды, увидев, как сына, грязного и нищего, забрасывают камнями и глиной, по-отечески его наказал. Спустя немного времени Франциск на суде, организованном в связи с совершенной им кражей отцовских денег, публично отрекается от родителя и уходит из мира... Впоследствии побег из отчего дома и отречение от родителей Франциск устроил и для будущей своей духовной дочери — «растеньица» Клары.
Как было замечено выше, в эту эпоху в западном мире наступило ощущение полной утраты Господа. И именно на этом фоне ассизцем овладела идея подражания Христу, но подражания, как мы увидим, чисто внешнего. Именно здесь зародилось то, что впоследствии было названо «добродетелью святейшей бедности», то есть подражание Христу в нищете, подражание жизни и бедности Христа, в котором Франциск, по его словам, укрепился до самого конца. Подражание Иисусу Христу стало сущностью жизни Франциска, основой его монашеского призвания. В чем же заключалось, какой характер имело подражание Христу у Франциска?
Подражание это выражалось в чисто внешних проявлениях — ассизский подвижник стремился уподобиться Иисусу Христу по наружности, совершая поступки, подобные тем, что творил во время Своей земной жизни Господь. Более того, Франциск, как он сам говорил, посвятил свою жизнь исполнению одного лишь желания — пострадать за других и искупить чужие грехи.
Благодаря этим свидетельствам и отдельным фактам биографии Франциска о нем сложилось вполне соответствующее всей его жизни мнение близких ему людей и последователей о том, что он стал «другим Христом, дарованным миру для спасения людей», что в нем Христос вновь воплотился, став Сыном Человеческим. А вскоре после кончины Франциска возникло «евангелие», благовествующее о нем (так называли «Цветочки»).
Посмотрим теперь, в чем же состоит истинное подражание Иисусу Христу, о чем свидетельствуют святые отцы. Преподобный Симеон Новый Богослов отвечает на этот вопрос следующим образом: «подобие же Христу составляют истина, кротость, правда и вместе с ними смирение и человеколюбие». И человека, стяжавшего сии качества, Бог делает «чистым, целомудренным, праведным, мужественным в искушениях, мудрым в божественном, благоутробным, сострадательным, милостивым, щедрым, человеколюбивым, благим — настоящим христианином, носящим образ Христа... Подобие сие, — заключает он, — водворяется чрез исполнение заповедей». Преподобный же Иоанн Лествичник говорил, что «удивляться трудам святых дело похвальное; ревновать им спасительно; а хотеть вдруг сделаться подражателями их жизни есть дело безрассудное и невозможное». Если так сказано о подражании жизни святых, то чему можно уподобить подражание жизни Самого Господа?..
Далее юный ассизец, обратившийся к вере всего-навсего четыре года назад, решил заняться проповедью христианства в миру, апостольским служением, возрождением церкви. В дальнейшем это стало правилом жизни и целью существования ордена, им основанного. Монашество в миру, по мысли Франциска, необходимо было утверждать, несмотря ни на какие искушения, ибо такая жизнь «лучше и более ценна в очах Господа, чем пустынножительство».
Что мы здесь видим? Не что иное, как полное забвение смысла монашеского жительства! Ведь если мы посмотрим, что по этому поводу говорили святые и опытные отцы, не как-то невзначай слышавшие о монашестве, но им и в нем жившие, то увидим нечто совершенно противоположное тому, о чем учил Франциск.
Так, преподобный Исаак Сирин, однажды приглашенный к себе живущим в миру духовным братом, отписал ему отказ, мотивируя его тем, что стоит ему выйти в мир из кельи своей, как настигнет его погибель души; сравнивал монаха, вышедшего из монастыря, с рыбой, вынутой из воды, а также с ягненком, бегающим посреди волков. С такой рыбой, умирающей на суше, сравнивает выходящего из монастыря монаха и сам преподобный Антоний Великий, основатель монашества. Впрочем, что Франциску до Антония, который, оказывается, не знал «добродетели ощущения Христа в мире», открытой великим ассизцем...
Никто из святых не помышлял о создании подобного псевдомонашеского образа жизни, видя в нем величайший вред для души. А если кто из монашествующих и служил миру, то, осознавая внутреннее противоречие сего служения монашескому подвигу, делал это, не выходя из своей кельи и только в том случае, когда получал на сей подвиг особое благословение. А что до причины, побудившей Франциска уйти в мир и закрепленной впоследствии в уставе его ордена (желание проповедничества), то виновником здесь, по слову преподобного Иоанна Лествичника, опять является дух тщеславия, рабом которого становится проводящий подобную жизнь монах, ибо «намерение [бесов в том], чтобы чрез ложное смирение в мир возвратить нас». И «когда мы, на год или на несколько лет удалившись от своих родных, приобретем малое некоторое благоговение, или умиление, или воздержание, тогда суетные помыслы, приступивши, побуждают нас опять идти в отечество для назидания, говорят, для примера и пользы многих... Советуют они нам возвратиться в мир с тем, чтобы мы благополучно собранное в пристанище бедственно расточили в пучине».
В чем причина столь разительного противоречия Франциска всей церковной, святоотеческой традиции? Еще задолго до Франциска пояснил эту причину преподобный Варсануфий: «...не позволяет же тебе отсечь волю твою — неверие, а неверие происходит оттого, что мы желаем славы человеческой».
Увы, эти мудрые советы опытных наставников были забыты; Франциск, ведомый своей волей, пошел дальше, и дух самости продолжал развиваться в нем со стремительной быстротой.
Рассмотрим, каким же образом дух сей проявлял себя в ассизском подвижнике. Наглядный пример проявления духа тщеславия и ложного смирения преподносит нам IX глава «Цветочков», смысл которой — в словесном препирательстве между Франциском и братом его по ордену Львом. То, что названо латинянами «смиренным спором», заключается в следующем. Однажды захотел Франциск отслужить утреню, но, не обретя богослужебных книг, вместо службы предложил Льву «посмирять» его. «Я, — начал Франциск, — буду говорить, а ты мне будешь отвечать, как я тебя научу... О, брат Франциск, ты сотворил в миру столько зла и столько грехов, что достоин ада». «Через тебя, — отвечал Лев, — Бог сотворил столько добра, что ты пойдешь в рай...» и так далее. «И вот так, в таком смиренном споре» теша свое тщеславие, с одной стороны, и занимаясь человекоугодием — с другой, в состоянии экзальтации и экстаза ударяя себя в грудь, возглашая свои реплики громким голосом и заливаясь обильными слезами, провели они всю ночь.
Безудержное желание проповедовать (о котором, разумеется, знали все его приближенные, ибо он сам свидетельствовал противящимся ему: «...вы не понимаете воли Божией и не даете мне обратить весь мир») ассизец решил осуществить, получив на то согласие и благоволение своих духовных чад — Клары и Сильвестра, к которым он и обратился с таким вопрошанием. Разумеется, ответ людей, услаждавшихся речами Франциска и преклонявшихся перед ним, был однозначен.
Если говорить о неких «чудесах», совершенных во дни своей жизни ассизским аскетом, то и их-то он творил с целью пробуждения великого почтения к себе в душах приходивших к нему людей. Разумеется, Франциск знал, что наконец-то он приобрел то, к чему стремился и чего добивался всю жизнь, — славу, почет и честь; знал, что братия безумно любит его и почитает святым. И в этой связи представляется чрезвычайно интересным один эпизод, который произошел во время беседы о Боге, происходившей между Франциском и его братиями по ордену (а как известно, речи ассизца всегда услаждали слушавших его). В середине беседы подвижник вдруг спросил у братии, упоенной его речами: «как вы думаете, какая самая святая душа у Бога в этом мире?» Братия в недоумении: «Зачем спрашивать, и так понятно, что твоя, Франциск». Тот, нимало не смутившись (конечно, он ожидал именно такого ответа), перевел взор на проходившего неподалеку от них брата Руффина и сказал в ответ: «я... самый недостойный и гнусный человек, какой только есть у Бога в этом мире... Бог открыл мне, что его (Руффина) душа одна из трех самых святых душ, какие только есть у Бога в этом мире». Как видим, ложное смирение и здесь выявило себя в полноте, ибо концовка фразы говорит сама за себя: разумеется, среди этих «трех» не могло не остаться места для него самого.
Не случайно поэтому члены его ордена, заразившись подобными представлениями о собственной исключительности, увидев однажды добродетельную жизнь одного из братий, поняли, что он — «человек великого совершенства, как они сами». Не случайны и другие центральные события жизни самого Франциска, о которых чуть ниже. Не случайны, ибо сам Франциск так говорил о смысле своей жизни: «я трудился своими руками и хочу трудиться, и хочу, чтобы и все другие братья трудились изо всех сил, потому что это приносит честь».
Чтобы сделанные выводы не показались слишком поспешными, посмотрим, что по этому поводу пишут святые отцы. Так, авва Дорофей свидетельствует: «монашеская гордость есть та, когда кто тщеславится, что он упражняется во бдении, в посте, что он благоговеен, хорошо живет и тщателен». Сам же Франциск неоднократно проповедовал о смирении, но, по словам аввы Дорофея, «случается также, что иной и смиряется для славы. Все сие относится к монашеской гордости».
Когда мы «стремимся к упражнению в мнимых добродетелях, потому что они приятны для наших чувств, потом, мало-помалу, неприметным образом, заражаемся мнением»; и поскольку благодать не спешит осенить, увенчать нас, то мы сами сочиняем в себе сладостные ощущения; сами себя награждаем и утешаемся сами собою». «Тщеславие [же] стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по нечистоте своей, за недостижением истины — сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные, ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения».
И вот именно эти последние мысли, высказанные святителем Игнатием Брянчаниновым, и объясняют нам во всей полноте характер мистики Франциска Ассизского, к рассмотрению которой мы и переходим.
Ранее уже говорилось о том, что в детстве и юношеском возрасте Франциск слышал какие-то голоса, повелевавшие, что и как ему нужно делать. Иногда эти голоса приходили внезапно, иногда — во время молитв. И вот на это стоит обратить особое внимание. Дело в том, что будущего подвижника никто не учил молитве — не было у него духовного наставника, который смог бы разъяснить ему правила молитвы и научить практическому их осуществлению. И потому образ молитвы Франциск создавал себе сам. Посмотрим, к чему это привело.
Однажды люди, стоявшие в храме и внимавшие проповеди голого Франциска, впали в состояние полной истерии, ибо «все присутствовавшие при проповеди, вся великая толпа мужчин и женщин начала неудержимо плакать», и рыдания их были таковы, что «никогда там не случалось ничего подобного...». В другой раз во время беседы Франциска с братиями о Боге, происходившей, надо полагать, в аналогичной истерической манере, явился посреди них некто, принятый ими за Христа, и «преисполнил их такой сладости, что все лишились чувств и лежали словно мертвые».
Были случаи и пострашнее. Так, брат Иоанн из Верны после продолжительной медитации на тему «сие есть Тело Мое» возжег в себе «любовь к сладчайшему Иисусу в таком рвении и такой сладости, что уже не могла душа его выносить такой сладости, но громко возглашала, и, как бы опьяненный духом, он не переставал говорить про себя: "Сие есть тело мое" — потому что при этих словах ему казалось, он видит благословенного Христа с Девой Марией». Взойдя после этого в храм «в том рвении духа, и с той тревогой, и с теми речами, не думая, что кто-нибудь слышит его... не мог он сдержаться от переполнявшей его божественной милости и возглашал громким голосом, и так долго пробыл в этом состоянии», после чего начал служить мессу. Постепенно дошел он до того, что «едва мог вынести столько сладости и нежности», затем «еще более вознесся в сладости созерцания» и, лишившись чувств, упал навзничь. После того «тело его похолодело, как тело мертвеца, и пальцы рук закоченели так сильно, что почти совсем не могли распрямляться или двигаться». Люди же, наблюдавшие за всем этим, «плакали из благоговения».
Другой ученик и последователь Франциска — брат Массео — как-то раз захотел вымолить у Бога добродетель смирения. И «однажды случилось ему войти в лес, и в духовном рвении шел он по лесу, роняя слезы, вздохи и слова, и в пламенной жажде своей испрашивая у Бога этой божественной добродетели; а так как Бог охотно внимает молитвам смиренных и сокрушенных сердцем, то до брата Массео в таком его состоянии дошел голос с неба...». После недолгой беседы со Христом брат Массео получил желанную добродетель, и с тех пор в жизни его произошли перемены. О наиболее важной из них «Цветочки» повествуют так: Массео, «когда молился, производил однообразный ликующий звук, вроде глухого воркования голубя — у! у! у! — и стоял так в созерцании с весельем в лице и радостью в сердце».
В связи со всем сказанным выше необходимо вспомнить, как же учили и что говорили о молитве святые отцы. И здесь мы увидим картину, совершенно противоположную только что описанной. Так, например, преподобный Макарий, живший в конце IV — начале V столетия, писал: «истинное основание молитвы: быть внимательным к своим помыслам и отдаваться молитве в великом спокойствии, великом умиротворении, не смущая других... Для молитвы не надобно ни жестов, ни возгласов, ни молчания, ни коленопреклонения... Довольно стонов и рыданий: все, что мы взыскуем в молитве, — это приход Бога».
Как же можно в этом свете объяснить молитвенную практику Франциска и его учеников, а равно и всех католиков, унаследовавших ее от своих «святых»? Обратимся за ответом к преподобному Симеону Новому Богослову, жившему двумя столетиями ранее Франциска, а между тем столь ясно о нем предвозвестившему. «Когда кто, — пишет он, — стоя на молитве и воздевая на небо руки свои и очи свои, и ум свой, держит в уме божественные помышления, воображает блага небесные, чины ангелов и обители святых... и рассуждает о том тогда — во время молитвы, зря на небо, и подвигает тем душу свою к вожделению и любви Божией, а иной раз извлекает даже слезы и плачет... мало-помалу [молящийся так] начинает кичиться в сердце своем, сам того не понимая; ему кажется, что делаемое им есть от благодати Божией в утешение ему, и он молит Бога сподобить его всегда пребывать в таком делании. А это есть знак прелести: ибо добро уже не добро, когда не бывает добрым образом и как следует...»
Как было замечено ранее, духовная практика Франциска и его последователей основывается на игре воображения и чувств. Действительно, по слову святителя Игнатия (Брянчанинова), «оживить чувства, кровь и воображение старались западные; в этом успевали скоро, скоро достигали состояния прелести и исступления, которое ими названо святостью. В этой стране все их видения».
Осознавал ли сам Франциск возможность подмены? Теоретически — да, но, находясь постоянно в ощущении сладости и эйфории, даже не хотел о ней слышать. Разумеется, ассизский подвижник ведал о том, что бесы могут принимать вид Ангела света (2 Кор. 11,14) и что подобные явления необходимо уметь различать. Еще древние подвижники Церкви христианской, зная козни и происки лукавого, старались быть максимально бдительными на всякий час — и те иногда бывали прельщаемы и обманываемы (достаточно посмотреть хотя бы житие преподобного Симеона Столпника — 1 сентября, а также святителя Никиты Новгородского в Киево-Печерском патерике). Зная подобную опасность, какой же метод различения духов предлагает своим ученикам Франциск? На редкость «аскетический». Оказывается, все очень просто. Франциск указывает: как только представится очередное видение, необходимо всего лишь предложить явившемуся духовному существу открыть рот, для того чтобы можно было туда помочиться. И если после этих слов существо исчезнет, это будет знаком того, что являлся диавол. Не правда ли, замечательно?..
Теперь самое время перейти к разговору о тех откровениях и видениях Франциска, которые по справедливости считаются главными в его жизни, и, конечно же, являются закономерным следствием его прелестной мистической практики. Оба видения, о которых здесь будет рассказано, имели место на горе Альверно, подаренной ассизскому подвижнику на закате его земной жизни.
Первое из них необычайно наглядно показывает, в чем коренилось то самоуничижение Франциска, которое красной нитью проходит через всю его жизнь.
Молясь однажды на горе Альверно словами самоуничижения: «Господи, что я пред Тобой? что значу я в сравнении с силою Твоею, ничтожный червь земли, ничтожный Твой служитель!» — и повторяя эти возгласы непрестанно, Франциск получил на свое вопрошание тот ответ, к которому стремился и которого чаял, а именно: явились ему два больших света, в одном из которых он узнал Создателя, а в другом — самого себя... То уподобление Христу, к которому Франциск столь рьяно стремился в продолжение всей своей сознательной жизни, в его душе наконец-то произошло: он увидел себя равным Богу! И именно это видение является одной из главных причин того, что ученики Франциска, его последователи и почитатели говорили в один голос о том, что в их учителе и наставнике произошло новое воплощение Христа.
Второе же откровение, происшедшее с ним на той же горе, имело такую силу, что впоследствии послужило одним из главных мотивов для канонизации подвижника, происшедшей спустя всего лишь два года после его смерти. Конечно же, речь идет о главном (с точки зрения самих католиков) событии в жизни Франциска — стигматизации, то есть появлении на теле его ран и язв, подобных крестным ранам Спасителя. А дело было так: 14 сентября 1224 года, в день Воздвижения Креста Господня, Франциск стоял на коленях, воздев руки к небу и молясь о том, чтобы Бог дал ему возможность пережить страдания, которые испытал на Кресте Сам Господь (заметим: вновь — молитва без покаяния)... Через некоторое время, молясь подобным образом, Франциск приобрел твердую уверенность в том, что просимое осуществится. И сразу после этого «он отдался созерцанию страданий Спасителя, созерцанию, доведенному до высшей степени сосредоточенности». Наконец, «в избытке ощущаемых им любви и сострадания, он почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса».
Буря чувств — земных чувств — охватила нашего героя, и после этого «на теле [его] явление это оставило образ и чудесно запечатленные следы страданий Христа, ибо тотчас же на руках и ногах Франциска начали показываться как бы гвозди; казалось, что центры рук и ног были как бы пронзены этими гвоздями... На правой же стороне груди сделался виден след от удара копьем, подобный шраму, — след, воспаленный и источающий кровь, которая проступала на одежде... Франциск носил на груди своей, на руках и ногах образ и телесное сходство со Спасителем». Здесь, и надо согласиться в этом с католиками, мистика ассизского аскета достигает своего апогея. Горячее желание уподобиться Христу в подражании Ему стало в представлении Франциска реальностью — он ощутил себя «превращенным в Иисуса», вплоть до телесного с Ним сходства.
Однако о подобного рода видениях истинные святые думали иначе. Так, преподобный Варсануфий, отвечая на вопрошание ученика о том, что делать, когда представится видение в образе Христа, говорит: «не прельщайся, брат, никогда таким демонским извещением, ибо Божественные явления бывают лишь святым, и оным всегда предшествует в сердцах их тишина, мир и благодушие. Впрочем, и познавая истину [явления], святые признают себя недостойными, а тем более грешники не должны никогда верить таким явлениям, зная свое недостоинство». Франциск же, напротив, как видно из всего вышеописанного, принял все это за истину без малейшего сомнения.
Интересен также тот факт, что после стигматизации Франциск «перестал интересоваться всем происходящим в ордене» и предоставил монахам жить, как они хотят.
Возомнив себя равным Богу, ассизец говорил впоследствии: «я не сознаю за собою никакого прегрешения, которое не искупил бы исповедью и покаянием». Насколько далеко он отдалился от Бога, можно понять хотя бы из сопоставления этой его фразы с духовным откровением аввы Дорофея: «...чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным»; напротив, чем более отдаляется, тем чище сам для себя становится, не замечая собственных грехов.
Куда завела Франциска такая «духовная» жизнь, можно заключить хотя бы из слов, сказанных им уже на смертном одре: «я прощаю всем моим братьям, как присутствующим, так и отсутствующим, их обиды и их заблуждения и отпускаю им грехи их, насколько это во власти моей». Заметим: не просит прощения даже перед смертью, напротив — сам прощает. И наконец, заканчивает он свою жизнь с полным осознанием своей праведности: «...я исполнил то, что должен был исполнить». Здесь мы видим уже полную противоположность тому, что сказал Сам Господь: «когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17, 10).
Приведем еще один характерный пример бесчисленных откровений Франциску. Однажды со своим братом по ордену Массео Франциск вошел в храм помолиться и получить очередное откровение. «В той молитве [он] воспринял столь неизмеримую милость, воспламенившую так сильно душу его любовью к святой бедности, что от румянца лица его и от разверстых уст его, казалось, будто извергается пламя любви. И, как бы весь в огне, подошел он к товарищу и так сказал ему: "А! а! а! брат Массео, дай мне себя!" И промолвил так трижды, и на третий раз святой Франциск одним духом поднял брата Массео в воздух и бросил его от себя на расстояние большого шеста; и брат Массео был этим в величайшей мере поражен и после рассказывал товарищам, что в тот миг, как святой Франциск одним духом поднял его и подкинул, он испытал столь великую сладость души и утешение от Духа Святого, какого никогда в жизни своей не испытывал». Весьма странно, не правда ли, выглядит «утешение от Духа Святого», когда слышишь двусмысленную фразу «дай мне себя», после чего, вопреки законам гравитации, поднимаешься на воздух, летишь вниз и ударяешься затылком о каменные плиты...
Святитель Игнатий Брянчанинов, понимая страшный вред, который может принести душе изучение, а тем более — применение духовной практики католицизма, советует своим чадам заняться «чтением Нового Завета и святых отцов Православной Церкви (отнюдь не Терезы, не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их еретическая церковь выдает за святых)»...
Итак, жизнь и подвиги Франциска Ассизского, а также его ближайших учеников, рассмотренные нами в этой статье, свидетельствуют о следующем: они предавались мистическим созерцаниям и упражнениям, которые строго-настрого запрещались святыми отцами Церкви. Главный и основной порок, породивший вышеупомянутые тьмочисленные искажения духовной жизни его, — гордость и матерь ее — тщеславие. Именно эти страсти явились причиной того самообольщения, в котором пребывал Франциск. Находящийся в самообольщении, по свидетельству святителя Игнатия, «не ест, не пьет, не спит, зимою ходит в одной рясе, носит вериги, видит видения, всех учит и обличает с дерзкой наглостию, без всякой правильности, без толку и смысла, с кровяным, вещественным, страстным разгорячением и по причине этого горестного, гибельного разгорячения. Святой, да и только!.. Большая часть подвижников западной церкви, провозглашаемых ею за величайших святых — по отпадении ее от Восточной Церкви и по отступлении Духа Святого от нее, — молились и достигали видений, разумеется ложных... Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести».
В чем же первопричина, обусловившая столь уродливое развитие мистики Франциска, его чад и последователей? Как мы заметили, причиной прелестной духовной жизни Франциска явились гордость и тщеславие. Случайно ли их появление у юного тогда еще рыцаря? Оказывается, нет. Вожди западной церкви, а за ними и вся церковь католическая, возомнили себя уже осуществленным градом Божиим на земле, притом — градом, управляемым земною властью. В силу особых исторических условий католичество допустило у себя такую аномальность: оно поставило между христианской мистикой, растением светолюбивым, и Логосом, Солнцем этого растения, непрозрачную перегородку. Оно поставило между Богом и людьми земного владыку — папу — и затемнило этим достижение католиками непосредственной духовности в сфере Логоса. По исторически сложившемуся предрассудку католиков, вкорененному в них их религией, папа является наместником Христа на земле, лицом непогрешимым, божественным.
Предстоятель римской церкви присвоил по славолюбию себе первенство над другими Патриархами Церкви Христовой — продолжает тему преподобный Амвросий Оптинский. «А допуская славолюбие, мудрено и неудобно, и даже невозможно, бороться со страстию гордости», ибо «как одна ошибка, которую не считают ошибкою, всегда влечет за собою другую и одно зло порождает другое, так случилось и с римскою церковью».
И действительно, когда столь жуткая и разрушительная страсть, как гордость, закреплена, узаконена, канонизирована и коренится в самых недрах католической церкви, все верные и истинные ее чада — хотят они того или не хотят, понимают или не понимают — неизбежно наследуют и впитывают в себя эту страсть и, не воспринимая ее как нечто душевредное, работают ей и считают ее нормой бытия. Да и сам Франциск говорил о том, что Бог дает ему великую и крепкую «веру в священников, живущих по обряду святой римской церкви», всех призывал быть католиками и жить по-католически, а также обязывал своих последователей исполнять написанный им устав «ради Бога всемогущего и господина папы».
Потому-то «католики заблуждаются и гордостью обложены как ожерельем, — говорил святой Иоанн Кронштадтский и пояснял: — Причина всех фальшей римско-католической церкви есть гордость и признание папы действительным главою церкви, да еще — непогрешимою... Отсюда — ложные догматы, отсюда — двойственность и лукавство в мысли, слове и деле; отсюда — различные ложные правила и постановления при исповедании грехов; отсюда — индульгенции, отсюда искажение догматов; отсюда фабрикование святых западной церкви и несуществующих мощей, не прославленных Богом... и всякое противление Богу под видом благочестия и ревности о большей славе Божией».
Благодаря этой подмене произошло то, что латинские миссионеры стали «не ко Христу обращать и приводить людей, а к своему папе» (преп. Амвросий Оптинский); теперь уже «о папе ревнуют, а не о Христе, за папу воюют, а не за Христа» (св. прав. Иоанн Кронштадтский). И папизм римско-католической церкви стал причиной того, что она отпала «в гибельную тьму ереси» (свт. Игнатий Брянчанинов), «давно уклонилась в ересь и нововведение» (преп. Амвросий Оптинский).
Но «истинная Церковь пребывает и пребудет единою и нераздельною и единоспасающею, именно — Восточная Православная... Вне Церкви нет спасения, нет духа благодати», — заключает святой Иоанн Кронштадтский; нет и, разумеется, не может быть истинной святости.
Диакон Алексий БЕКОРЮКОВ
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ № 7, 2001