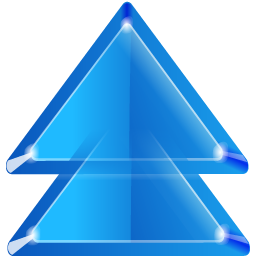Вечный враг человека: как философы решали проблему смерти
5 июля 2018 г.
Смерть была и остается последней загадкой для любого человека. Философы и писатели от Толстого и Гегеля до Хайдеггера и Левинаса рассуждали о смерти как об основном инструменте отчуждения человека от остальных людей, о том, что заставляет человека осознать своё одиночество, ведь все мы умираем в одиночку. При рассуждении о смерти мыслитель оказывается в непростой ситуации: не имея никакой возможности заведомо знать о том, что ждет человека после смерти, он вынужден идти вслепую.
Дискурс предлагает к прочтению главу из новой книги Анны Ямпольской о том, какими путями феноменология предлагает справляться с проблемой непостижимости смерти.
Смерть: что значит стать субъектом
«Leben ist Tod, und Tod ist auch ein Leben»
Hölderlin
«After the first death, there is no other»
Dylan Thomas
Из всех философских проблем проблема смерти представляется наиболее близкой не-философу: все мы сталкиваемся со смертью других людей, и каждый знает, что рано или поздно ему тоже придется умереть. Или точнее: каждый знает, что все люди смертны; о своей же собственной смерти мы стараемся не задумываться. Исключение составляют — или должны составлять — философы, потому что философствовать, в конечном итоге, значит «учиться умирать». Философия есть определенная практика, практика философствования, которая подразумевает не столько производство текстов, снабженных научным аппаратом, сколько особый modus vivendi, способ жизни, включающий в себя умение перейти границу жизни. Проблема заключается в том, что умирать нельзя научиться методом проб и ошибок, подобно тому, как мы приобретаем другие навыки: это не повторяющееся действие, и человеку — философ он или нет — дано умереть лишь единожды. Сегодня, сейчас, когда я, эмпирический автор, пишу эти строки, я все еще жива, я еще не ушла туда, «аможе вси человецы пойдем» — а значит, мое знание смерти (и моя принадлежность философскому сообществу как сообществу тех, кто доказал на практике свое умение умирать) — под вопросом. Это делает мои последующие речи о смерти двусмысленными: я должна писать так, словно знаю не понаслышке, что такое смерть, в то время как я лишь заглушаю наукообразным многословием свою собственную растерянность и тревогу.
Можно задать вопрос: а зачем здесь явился автор текста со своими никому не интересными автобиографическими метаниями? Дело в том, что серьезный философский разговор о смерти может вестись только от первого лица. Рассуждения о «смерти вообще» неубедительны, потому что «смерти вообще» не бывает, смерть всегда чья-то — моя собственная или моего ближнего. Более того, в некотором смысле первое лицо только и возникает в отношении к неизбежной смерти, в момент осознания собственной смертности. Действительно, о собственной смерти можно упоминать и вскользь — большая часть людей способна без особых душевных мук вынести оформление завещания или страхование жизни; но думать о том, что значит «умереть» для меня лично, — очень трудно. Мысль о своей собственной смерти не просто вызывает отрицательные эмоции: это такая мысль, которая «не умещается в голове», которую невозможно взять в толк. «Фантазии не хватает», как ответил Мандельштам Одоевцевой. Эту неспособность живущего представить себя умершим, уже-не-существующим, с образцовой ясностью выразил Толстой:
Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого. Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня! Разве Кай целовал так руку матери, разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание? И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему.
Толстой — а за ним и Хайдеггер — связывают воедино абсурдность мысли о смерти и острое ощущение собственной отделенности от «людей вообще». Огрубляя, можно сказать, что Dasein (буквально «здесь-бытие») — этот «лирический герой» книги Хайдеггера — это тот, кто способен удивиться тому, что он в самом деле существует здесь и сейчас, кто способен задать вопрос о своем бытии как бытии здесь, вот тут. В свою очередь мир, в котором Dasein живет и действует — это не научный мир «протяженных вещей», предметов, обладающих определенными свойствами, а мир обжитой и осмысленный, мир, который можно делить с другими. Страх смерти — не «смерти вообще», а моей собственной, личной смерти — это то, что обособляет меня, потому что этот страх — в отличие от многих других эмоций и переживаний — всегда мой собственный, принадлежит только мне и больше никому. Другими словами, переживание собственной смертности, переживание страха смерти — это первый шаг к субъективации субъекта. Именно поэтому оно несет в себе положительный смысл: благодаря тому, что я смертен, я обнаруживаю, что я — не Кай из учебника логики, не человек с улицы, такой же, как и прочие, а личность, единственная в своем роде. Когда я боюсь умереть, когда я испытываю страх смерти, то сам этот страх заставляет меня ощутить собственную уникальность: я существую в единственном экземпляре, словно Пизанская башня или собор Василия Блаженного, а значит, окончательное и бесповоротное уничтожение моего я, моего внутреннего мира с его богатством воспоминаний и переживаний — это гибель целой вселенной. Архимандрит Софроний (Сахаров) описывал переживание собственной смертности в терминах растраты смысла:
Мое умирание принимало характер исчезновения всего, что я познал, с чем я бытийно связан... Моя неизбежная смерть не была лишь как нечто бесконечно малое: “одним меньше”. Нет. Во мне, со мною умирает все то, что было охвачено моим сознанием: близ кие люди, их страдания и любовь, весь исторический прогресс, вся Земля вообще, и солнце, и звезды, и беспредельное пространство; и даже Сам Творец Мира, и Тот умирает во мне; все вообще Бытие поглощается тьмою забвения.
Однако я живу лишь в силу того, что я смертен. Как писал Мандельштам: «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?». Моя грядущая смерть делает мою жизнь, все, что со мной происходит, — необратимым, и тем самым реальным, «настоящим», а не иллюзорным. Неслучайно «память смертная», размышление о смерти представляют собой традиционную часть аскетических практик — как религиозных, так и сугубо философских.
О смерти хочется забыть, от нее хочется отвлечься — но и философия, и религия настаивают на необходимости героически «встречать ее грудью и вступать с нею в единоборство», ведь только перед лицом смерти я обретаю себя, каков я есть на самом деле, а не каким хочу казаться себе и другим. Своей смертью я не могу ни с кем поделиться, а значит она составляет ядро «моего собственного» бытия, мою самую собственную возможность. Как пишет Хайдеггер, страх смерти «уединяет Dasein в его наиболее своем бытии-в-мире». Смерть — не смерть вообще, а моя собственная — не просто случится однажды, смерть как то, что мне предстоит, ко мне определенным образом взывает. Принимая смерть как то, что мне предстоит, я оказываюсь лицом к лицу с этим таинственным собеседником. Я устремляюсь к смерти — и ее зов обособляет меня, вырывает меня из жизни вообще. В смерти я обнаруживаю себя не как «человека вообще» (представителя электората, потребителя, хорошего семьянина) — а в «подлинности голой», как самого себя, единственного и единичного. И это обнаружение самого себя во всей бренности и хрупкости моего собственного «вот я» — позволяет мне увидеть мир иначе, под совершенно иным углом; говоря языком Хайдеггера, смерть «размыкает» мое существование. Моя смерть — если я не отворачиваюсь от нее, а мужественно принимаю связанную с ожиданием смерти тревогу — делает меня зорче не только к смерти, но и к жизни. Однако эта зрячесть достигается ценой тотального одиночества: «умирают в одиночестве», говорит Паскаль, словно резюмируя Хайдеггера.
Это одиночество в смерти есть и расплата за субъективацию, и ее необходимое условие. Собой можно стать, лишь выполнив свою собственную аскетическую работу одиночества и страха; сделать это за другого или даже вместе с ним — невозможно. Для Хайдеггера смерть другого может аутентично быть понята только как моя собственная потеря:
Никто не может снять с другого его умирание. Кто-то наверное способен «пойти за другого на смерть». Но это всегда значит: «пожертвовать собой за другогов определенном деле». А такое умирание за <...> не может подразумевать, что с другого тем самым хотя бы в малейшей мере снята его смерть. Смерть, насколько она «есть», по существу всегда моя <...> В событиис мертвым неудается понять, что значит приход к концу для самого умершего. Действительно, смерть приоткрывается как утрата, но как та утрата, которую испытывают оставшиеся в живых. В переживании утраты не становится доступна утрата бытия, которую «претерпевает» умирающий. Мы не имеем в подлинном смысле слова опыта умирания других, но самое большее всегда только сопереживаем.
Другими словами, смерть полагает предел «заместимости» одного Dasein другим. Для Хайдеггера именно «заместимость» служит своего рода критерием, позволяющим отделить область das man, где заместимость возможна, от области подлинного, наиболее собственного. Поэтому, как показывает Ж.-Л. Марион, в хайдеггеровской перспективе отнять у другого Dasein его заботу (и, в частности, его собственное умирание) — значит лишить его его собственной инаковости, установить над ним свое господство.
Смерть пугает, и пугает нас тем более, что мы про нее ничего не знаем. Наша собственная смерть всегда впереди, а смерть чужая — смерть людей и животных — не дает нам почти никакого понимания этого феномена. Единственное, что мы твердо знаем о смерти, — это то, что смерть суждена лишь живому. Неживое не умирает, и поэтому «смерть — это феномен жизни». Мы знаем смерть лишь по ее симптомам, но сама она не доступна никакому опыту, ни внешнему, ни внутреннему. Смерть — это неизвестное по преимуществу, “undiscovered country”, говорит Гамлет. Мы способны понять и предвосхитить сопутствующие умиранию моменты — страх, боль, беспомощность, потерю власти над телом, но сама смерть затрагивает и пугает нас именно своей без-образностью, не-смысленностью. Превращение живого тела в труп, формы в бес-форменное не просто страшно, это оскорбительно. Смерть телесная предстает как своего рода зияние в пространстве смысла, и это зияние хочется немедленно уничтожить, заделать. Такой заплатой на теле смысла является мысль о естественности смерти.
Действительно, смерть как биологический процесс принадлежит порядку природы; гибель организма — это природный процесс, вызванный определенными причинами. Однако в том мире, в котором мы, люди, живем, в мире, который состоит не из вещей, а из смыслов, — смерть неестественна. Как пишет Симона де Бовуар, естественной смерти не существует: ни одно несчастье, обрушивающееся на человека, не может быть естественным, ибо мир существует постольку, поскольку существует человек. Все люди смертны, но для каждого человека смерть — это бедствие, которое настигает его как ничем не оправданное насилие, даже если человек покорно принимает ее.
Мы бы не умирали, если бы что-то не убивало нас. Пускай наша жизнь есть «непрерывное взращивание смерти», но сам момент прерывания жизни — всегда разрыв, всегда непредвиденное, всегда несчастный случай. А несчастный случай нельзя предвидеть, он не вписывается в общую ситуацию, не объясним из нее. Смерть — это событие по преимуществу. К смерти — ни своей, ни другого — нельзя подготовиться, сколько ее ни ждешь: наше восприятие времени растягивается, и «несколько минут, отделяющих от смерти», могут значить больше, могут длиться дольше, «чем целая жизнь». Смерть всегда приходит «как тать в нощи» — даже если человек умирает в результате длительной и тяжелой болезни, в хосписе или в палате реанимации; смерть всегда внезапна, но в то же время неизбежна, она составляет часть нашего жребия, нашей человеческой участи. Смерть реальна, реальна в смысле принадлежности к объективной действительности и реальна в смысле лакановского Реального: смерть — это то, меру чему задаем не мы, что обнаружимо только как нехватка или пробел. В некотором смысле смерть есть то, что на человеческом языке, на языке разума выражено быть не может. Как пишет Левинас, «смерть, не даваясь описанию в своей собственной событийности, затрагивает нас как не-смысл». О смерти как таковой можно рассказать лишь на языке крика.
Как же философия, являющаяся областью смысла, областью логоса по преимуществу, может говорить о смерти? Простейшее решение заключается в том, чтобы объявить ту смерть, с которой мы имеем обычно дело, смерть тела — ненастоящей. Тело — это лишь внешняя оболочка, которую следует сбросить с себя, чтобы бабочка-душа вылетела в подлинную жизнь. Пускай тело умирает, душа останется и будет жить все дальше и дальше, вечно. В диалоге «Федон» Сократ перед казнью объясняет опечаленным друзьям, что занятия философией подготавливают переход от жизни к смерти, подготавливают душу к безболезненному расставанию с телом:
Допустим, что душа разлучается с телом чистою и не влачит за собой ничего телесного, ибо в течение всей жизни умышленно избегала любой связи с телом, остерегалась его и сосредоточивалась в самой себе, постоянно в этом упражняясь, иными словами, посвящала себя истинной философии и, по сути дела, готовилась умереть легко и спокойно. Что это, как не подготовка к смерти?
Другими словами, философы, посвятившие себя изучению не перстного и призрачного, а вечного и подлинного, смерти бояться не должны: там, где Я — это лишь бессмертная душа, смерть тела только кажется смертью и не может вызвать настоящего ужаса. Как тебя похоронить, спрашивает Критон, и Сократ отвечает: уже не меня вы будете хоронить, а только мое тело. Равным образом, оплакивая умершего друга, оставшиеся в живых оплакивают лишь себя осиротевших, а не умершего и его страдания:
Мы ждали, переговариваясь и раздумывая о том, что мы услышали, но все снова и снова возвращались к мысли, какая нас постигла беда: мы словно лишались отца и на всю жизнь оставались сиротами <...> Я закрылся плащом и оплакивал самого себя — да! не его я оплакивал, но собственное горе — потерю такого друга! Критон еще раньше моего разразился слезами и поднялся с места. А Аполлодор, который и до того плакал не переставая, тут зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу, всем, кроме Сократа.
В такой перспективе проблема конечности человеческого существования — это проблема надуманная и нефилософская. Смерть по сути дела иллюзорна. Пускай момент перехода из земной жизни в существование за гробом носит катастрофический характер (вспомним последнее содрогание Сократа), катастрофа эта локальна; смерть не имеет силы над философом, который в момент смерти рождается в новую жизнь, а потому даже яд для него — исцеление. Христианский же взгляд на проблему смерти отмечен двойственностью: душа бессмертна, но человек смертен, хотя и ожидает суда и воскресения мертвых, причем это воскресение будет и воскресением тела. «Слово стало плотью», говорит ап. Иоанн, а значит тело перестало быть всего лишь темницей или могилой души, ее внешним одеянием, которое можно с презрением отбросить. Тело — то тело, в которое смог воплотиться сам Бог, — оказалось реабилитировано, отныне оно составляет полноправную часть человеческого существа. Но тем самым в полный рост встала проблема телесного страдания. Реальность страданий и смерти Христа, выраженная в церковной традиции Страстной седмицы, означает реальность страданий и смерти каждого человека. Победа Христа над смертью — это одновременно и утверждение ее реальности, ведь иллюзорного врага победить нельзя; воскресение возможно лишь для умерших взаправду. В христианстве смерть приобретает подлинно трагическое измерение, без которого не была бы возможна и пасхальная радость.
Только там, где смерть реальна, смерть другого человека может стать философской проблемой; только там можно поставить проблему смерти другого и/или страдания другого, где человек не сводится к одной лишь душе, но представляет собой воплощенное и конечное сущее. Если смертность человека принимается всерьез, то чужая смерть значит нечто большее, чем мое личное горе, моя потеря близкого: через смерть мы оказываемся связаны с другими сущностным образом. Иными словами, я могу быть личностью только благодаря связи с другим человеком — таким Другим, который подвержен страданиям и смерти. Другой становится Другим, точнее, осмысляется как таковой, только ввиду своей смертности: тот, кто умер, тот, кто смертен, — тот и есть Другой, и поэтому Женя в «Детстве Люверс» так легко догадывается о том, кто именно погиб. «Другой человек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви» перестает быть «туманным и общим», знакомым репетитора, «человеком вообще», перестает быть Каем из учебника логики, а становится «особенным и живым», единственным в своем роде — тем, о ком говорят заповеди, и тем, любить кого нам заповедал Бог, давший эти заповеди. Смертность другого открывает для меня другую возможность субъективации, возможность другой субъективации — не такой, как субъективация в переживании собственной смертности.
Своя смерть может быть пробуждением — как стала пробуждением смерть князя Андрея, который умер прежде своей физической смерти — умер тогда, когда утратил связь со своими близкими в конкретности их существования, в конкретности их забот и тревог:
Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. <...> С этого дня началось для князя Андрея вместеог с пробуждением от сна — пробуждение от жизни. <...> Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем — за его телом.
Смерть Другого должна быть поистине «пробуждением», но не отделяющим от других «пробуждением от жизни», а «пробуждением к ответственности», пробуждением к смыслу. Причем этот смысл оказывается сущностно связан с бессмысленностью, не-смысленностью смерти: смерть другого не может иметь никакого смысла, не может иметь никаких оправданий, никакого «ради чего», но именно поэтому я должен ей противостоять любой ценой — пусть даже ценой собственной жизни. «Мое дело — отвечать за смерть других, и это дело стоит прежде дела — быть», пишет Левинас. Пускай я не могу сделать так, чтобы другой вообще никогда не умирал, — но я могу сделать все, чтобы эту смерть отдалить, чтобы не дать ему умереть в одиночестве, я могу не остаться равнодушным. Смерть/смертность другого во всей ее гнетущей бессмысленности может рассматриваться как своего рода травма, как то, что в рамках моего сознания уместиться не может, хотя и задает моему сознанию рамки: мое существование осмысленно в той мере, в которой я существую не для себя, а для Другого. Левинас, для которого именно такое понимание смерти является основным, пишет:
Предстояние лицом клику в его выражении — в его смертности — взывает ко мне, требует меня, обязывает меня, как если бы та невидимая смерть, к которой обращен лик другого — эта чистая инаковость, некоторым образом отделенная от любой общности — стала моим личным делом. Как если бы смерть, неведомая тому другому, в наготе лика которого она уже просвечивает, «касалась» бы «меня» лично — прежде чем стать смертью, предстоящей мне самому. Смерть другого человека заставляет меня усомниться в себе — как если бы мое равнодушие превращало меня в сообщника той смерти, которая другому невидимо предстоит; и как если бы, еще прежде чем я посвящу себя служению другому сам, я должен был бы отвечать за смерть другого человека, за то, чтобы не покинуть его в одиночестве. Именно в этом призыве к ответственности, назначаемой мне ликом, который меня просит, меня требует, меня обязывает, именно в этой постановке меня под вопрос другой становится моим ближним.
Я, смертный, обнаруживаю себя ответственным за смертность Другого — и именно эта ответственность, если верить Левинасу, составляет мою собственную уникальность и незаменимость.
Таким образом, смерть в ее двойственности — как смерть моя собственная и смерть ближнего — открывает мне меня самого двояким образом. В известном смысле «я» становлюсь «собой» только «сосредоточившись на себе», только в ходе и в результате этой заботы как упражнения в смерти. «Я» как «я сам» рождаюсь в отношении к смерти — своей и других, и только смерть придает человеческому существованию его окончательную, завершенную форму. Покуда я жив, я не завершен, не полон; более того, именно эта неполнота, нехватка определяет меня как смертного, но живущего. Поэтому все формы фиксации «я» — и, в первую очередь, письменное творчество — являются попыткой отменить или заменить собой смерть; все они являются различными способами перейти в посмертное существование, независимое от моей эмпирической жизни. «Нет, весь я не умру», я переживу смерть в написанных мною текстах — или, может быть, создавая текст, навсегда фиксируя в нем свою душу, я уже отдаю часть ее вечности, а значит, смерти. В интервью, опубликованном посмертно, Деррида пишет:
Когда я выпускаю (в свет) “мою” книгу (а ведь никто меня к этому не обязывает), я словно становлюсь — возникая и исчезая снова — тем неопытным привидением, которое так и не научилось жить. Оставленный мною след означает разом и мою смерть — лишь грядущую или уже наступившую, и надежду на то, что этот след меня переживет. И это не стремление к бессмертию, это структурный момент. Я оставляю этот клочок бумаги, я ухожу, умираю: эту структуру невозможно покинуть, она образует константу моей жизни. Всякий раз, когда выпускаю нечто из рук, я, пишущий, проживаю свою собственную смерть.
Текст остается после смерти автора — и поэтому в нем осуществляется главное человеческое желание: «он должен остаться». Человек должен остаться, он должен пережить смерть, выжить — пусть не как тело, не как личность, но выжить. Смертность включает в себя преодоление смерти, жизнь после смерти.
Жить после смерти — например, остаться жить в своих детях, в своем потомстве. Рождение детей не сводится к передаче генетического кода. Дети рождаются из того, что Диотима назвала «стремлением к бессмертию», из стремления оставить на земле вместо себя свое потомство, тех, кто в некотором смысле является мною, несет в себе часть меня самого. Хотя я не есмь мое собственное дитя, но я не являюсь по отношению к собственному ребенку и к собственным родителям кем-то совершенно чужим. Для своих детей и своих родителей я — и другой, и я сам одновременно. Левинас, философ Другого, отмечает парадоксальный характер отношения родителя к ребенку: ребенок, будучи абсолютно другим по отношению ко мне, в то же время принадлежит области моего; отношения между родителями и детьми не могут быть описаны в терминах тождественного и иного, более того, эти отношения в некотором смысле выходят за рамки этики (понимаемой как отношение к абсолютно Другому в его лике). В ранней книге «Время и Иное» Левинас пишет:
Отцовство — это отношение с чужаком, который, будучи Другим, есть Я, это отношение Я с самим собой, которое мне тем не менее не чуждо. Действительно, сын не есть мое произведение, и тем более сын — не моя собственность <...> Я не имею сына, но в некотором смысле я есмь мой сын.
Особенно сильно это проявляется в отношении к смерти, потому что смерть ребенка задевает нас вдвойне: в каком-то смысле она является и нашей собственной смертью. Рождая детей в жизнь — в эту перстную, конечную жизнь — мы рождаем их и в смерть. И именно смерть детей — смерть сына — является в нашей культуре парадигмой смерти Другого: страдальчески заломленные руки Богородицы в бесчисленных вариантах «Положения во гроб» иконографическим образом выражают страдание перед лицом смерти другого. «Ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив?», — спрашивает Мария в метафизических стихах Бродского, потому что сын — сын как рожденный — всегда смертен. В своих поздних работах Левинас перетолкует тему отношений между родителями и детьми в контексте ответственности за смерть/смертность (нерожденного) ребенка: ситуация матери, которая ощущает страдания ребенка, угрозу его жизни за пределами возможностей ощущения, может быть описана только в терминах заложничества и замещения другого собой: это ответственность, которая коренится не в поступках, не в свободных актах субъекта, а затрагивает мать глубже, на телесном, плотяном уровне.
Особой формой посмертного существования, посмертного пребывания является мертвое тело. Мертвец требует гроба, требует похорон — и его настойчивость обращена к живым, к оставшимся. Умерший уже не с нами, ему, строго говоря, уже ничего не нужно, — но его телу требуется погребение, и на это требование мы обязаны ответить. Антигона выбирает ответственность перед мертвым, а не закон живых, потому что нельзя свести тело брата к «просто вещи»; да и какой закон может быть в обществе, члены которого не озабочены человеческим достоинством настолько, что не дают себе труда достойно похоронить мертвых? Действия Антигоны обусловливают саму возможность речи, и поэтому общество, в котором мертвых не хоронят, обречено на немоту.
С человеческим существом нельзя обращаться после смерти как с дохлым псом. Нельзя бросить его останки на произвол судьбы, забывая о том, что регистр бытия того, кто носил имя при жизни, должен быть сохранен актом погребения после смерти, — так резюмирует основной конфликт пьесы Софокла автор, которого не упрекнешь в излишнем морализме и сентиментальности. Но похороны не только подтверждают принадлежность умершего к человеческому роду, и, тем самым, принадлежность оставшихся к человеческому социуму; похороны, отмечая необратимость перехода от жизни к смерти, фиксируют смерть как событие, которое имеет отношение как к Богу, так и к другим людям, которое носит нередуцируемо социальный и теолого-политический характер. В свидетельствах западных военнопленных встречаются полные ужаса упоминания о том, что советские хоронили своих умерших без какой бы то ни было религиозной церемонии, то есть — в глазах представителей западной культуры, — без какого-либо уважения к их человеческому достоинству. Что же отличает смерть человека от смерти человеческого организма?
Человек никогда не умирает лишь как частное лицо, человеческая смерть всегда имеет публичное измерение — в отличие от животных, чья смерть происходит на биологическом уровне, невидимом наблюдателю, сокрытом от любопытных глаз. Хайдеггер, как известно, считал, что животные не умирают в собственном смысле, а лишь издыхают, «околевают», поскольку они лишены дара слова и тем самым не способны воспринять «смерть как таковую», а человек — если рассматривать его как Dasein — околеть, то есть умереть на сугубо биологическом уровне — не может. Смерть человека несводима к биологическим процессам: остановке сердца, гибели клеток мозга. Смерть не фиксируется приборами, а провозглашается врачом или коронером на основе показаний приборов или медицинского осмотра. Другими словами, человеческая смерть (в отличие от биологического окончания жизни) — это еще и перформативный речевой акт, который совершается живыми и для живых. Человек, будучи существом не только частным, но и общественным, в каком-то смысле всегда умирает «на миру», его смерть всегда касается не только его самого, она не остается его личным делом. Врач свидетельствует о смерти, о том, что событие смерти имело место; и этот акт свидетельства в последний раз вписывает умершего в политическое пространство как такое пространство, в котором люди способны друг друга видеть и делать видимыми себя и других.
Здесь мы еще раз сталкиваемся с апорией, связывающей язык и смерть: язык не может высказать смерть во всей полноте вызываемого ею распада смыслов, но в то же время сущность языка, сущность речи предполагает возможность и необходимость говорить об умирании, о смерти, об умерших. Язык, который называет отсутствующее, неявленное и тем самым делает его явленным, то есть в некотором смысле присутствующим, сущностно связан с хранящей и удерживающей функцией памяти, а ведь память — это одна из основных форм посмертного бытия. Пока мы помним об умерших — они ушли в небытие не до конца, наша связь с ними не разорвана. В этом смысле мы, помнящие, — всегда выжившие (superstes), мы обязаны стать свидетелями (testis) для тех, кого нет. Пусть мы не можем ни помнить, ни свидетельствовать о смерти другого — как его собственной, пусть память и слово не смогут закрыть то зияние в мире, которое остается после его смерти, мы можем помнить о жизни других, мы можем свидетельствовать о том, что они жили, мы можем дать имя их абсолютному отсутствию.
Ямпольская, А. В. Искусство феноменологии — М. : РИПОЛ классик, 2018. — 342 с.
https://discours.io/articles/chapters/v … emu-smerti